
«Не забирайте свои органы на небеса. Небеса знают, что мы нуждаемся в них здесь», - такие слова неизбежно читает каждый, кто открывает двери рабочего кабинета Сергея Борисовича Семченко, врача-хирурга и руководителя Центра трансплантации органов и тканей человека Областной клинической больницы № 1. Правда, эту наклейку на английском языке Сергей Борисов привез из Испании более 20 лет назад: много лет он прикладывает огромные усилия, чтобы простой слоган стал понятен каждому жителю нашей страны.
— Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, как вы оказались в медицине?
— Я знал, что буду врачом уже в конце выпсукного класса. Может быть, на этот выбор повлияла семья: у меня мама и тетя были врачами. Несмотря на «золотую медаль» и пятерки по всем предметам, у меня все же был не технический склад ума. И я понимал, даже чувствовал, что из меня должен получиться нормальный врач, однозначно - только хирург.
Учился я на лечебном факультете в Кемеровском медицинском институте. После учебы в интернатуре меня взяли в ординатуру по хирургии, хоть и количество мест там было ограничено: увидели во мне желание учиться и отличную успеваемость. Затем была аспирантура по «хирургическим болезням» - в том же Кемеровском мединституте.
Параллельно я начал работать в Областной больнице № 1. Трудился там с 1989 по 2002 годы.
— Трансплантологией там начали заниматься?
— Раньше, со студенческой скамьи: на пятом курсе ездил на научные конференции, в том числе и в Москву. Следует отметить, что в прежние времена в вузах обязательно складывались научные школы и направления, как правило, вокруг какой-то личности. В нашем институте это была хирургическая школа Шраера Теодора Израилевича, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ. Мы посещали хирургический кружок под его руководством, в рамках которого занимались наукой: выступали с докладами на конференциях. Благодаря своему учителю во время конференций в Москве я нередко посещал клинику Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского - место, где зарождалась трансплантология в нашей стране, смотрел, как проводят экспериментальные операции по трансплантации органов.
Во многом благодаря такому опыту я утвердился в своем выборе профессии. То есть изучением трансплантологии я занимался поэтапно: ординатура, аспирантура, защита научной работы по этому направлению.
В Областной больнице № 1 в Кемерово, где начиналась моя трудовая деятельность, стал заведующим хирургическим отделением. Это было постсоветское время, финансирование здравоохранения практически не осуществлялось. И чтобы развивать отделение, приходилось искать спонсоров: помню, как я обращался на Кузнецкий металлургический комбинат и другие предприятия, благодаря чему у нас появилось приличное оборудование: операционный стол, микроскоп и другой необходимый для качественной работы инструментарий. Но, когда однажды в докладе чиновника я услышал, что это оборудование приобретено на бюджетные деньги, понял, что надо менять место работы - уехал в Омск, где возглавил второе хирургическое отделение Городской больницы № 1 и организовал там службу трансплантации органов.
Вот что о Сергее Борисовиче в 2016 году писали местные СМИ: «Именно с переезда в Омск в 2001 году из Кемерово хирурга Сергея Семченко в нашем городе реально начала развиваться трансплантология – были проведены первые успешные операции по пересадке сначала почек, затем печени. За прошедшие полтора десятка лет Сергей Борисович провел сотни операций, поспособствовал принятию не имевшего аналогов в России местного закона «Об областной целевой программе «Совершенствование службы трансплантологии на 2005-2010 годы», становился победителем регионального и всероссийского конкурсов «Лучший врач» в номинации «Лучший врач-хирург». 55.ру
— История Центра трансплантации органов и тканей человека Тюменской области началась в сентябре 2017 года, с первой операции по пересадке почки.
— Да, я принял предложение из Тюмени и решился возглавить организацию службы трансплантологии. Тюменский центр - третий на моем счету. В Кемеровской больнице я, по сути, реорганизовал службу трансплантологии: с 1992 года, после выхода закона о трансплантации, практически жил в Москве, потому что добивался четких и конкретных инструкций, правовых актов по реализации этого закона. Поверьте, это непросто, приходилось очень много взаимодействовать с чиновниками Минздрава и исполнительной власти Кемеровской области.
— Вы помните свою первую операцию? Может быть, вспомните сложный случай из практики?
— Как таковых сложных случаев нет. То есть нет операций, когда мы не знаем, что делать. Есть редкие случаи - когда нужно грамотно использовать свои знания и умения.
Из числа первых операций вспоминается Омск, где я делал пациентке четвертую операцию по трансплантации почки. В нашей стране и в мире это не так часто бывает - это редкий случай.
А на операции я начал ходить еще студентом, и к концу института я самостоятельно стоял у стола. Но для меня это не было чем-то сверхъестественным, не «вау-вау», как сейчас сказала бы молодежь. Я ставил другие задачи: сделать так, чтобы операций было тысяча. Наверное, поэтому я всегда работал в двух ролях: хирург и организатор. А в этом случае недостаточно сидеть на стуле и запрашивать дополнительные средства. Важно иметь стратегию развития службы.
В этой логике и выстроена работа тюменского Центра: мы начинали с пересадки почки, затем добавили печень, следом - сердце. В ближайших планах - легкие. На данном этапе идет подготовка к трансплантации нового органа, но это займет определенное время, поэтому о конкретных сроках я говорить не могу. Это огромная работа, в которой задействованы далеко не только медики, но и руководство области, поскольку без дополнительного финансирования реализацию этой программы сама больница может растянуть на долгие годы. Кстати, это не такие большие деньги по сравнению с ремонтом дорог, можно сказать, копейки.
— Что необходимо для запуска операций по легким?
— Необходим полный апгрейд пульмонологической службы в области. Другая важная забота - кадры, в Тюменской области всего восемь пульмонологов. Сейчас мы готовим нужного специалиста, только потом можно будет открыть специализированный пульмонологический кабинет, следующий этап - дневной стационар. Главное - у нас есть «дорожная карта», постараемся, чтобы путь к появлению трансплантации нового органа был недолгим.
— На каком этапе развития сейчас находится Центр трансплантации?
— Центр трансплантации, я считаю, хорошо развивается. С одной стороны, мы стараемся увеличивать число трансплантаций. Министерство здравоохранения ставит перед нами задачу к 2026 году выполнять 30 трансплантаций почки на миллион населения. В этом же ряду - и увеличение числа пересадок печени и сердца. Мы готовы к этой работе, правда, для этого необходимо эффективное взаимодействие с донорскими стационарами региона: не только на бумаге, оно должно быть круглосуточным. С другой стороны, как я уже сказал, мы увеличиваем число органов для трансплантации: в планах - добавить операции по легким. Эти стратегические задачи мы решаем параллельно.
— Получается, что развитие вашего центра, по сути, качественно преобразует медицину в Тюменской области?
— Меняются не сами службы как таковые, а их задачи по своевременному направлению пациентов и включению их в лист ожидания.
— Сколько операций проведено в Центре со момента открытия?
— 212 почек, 15 печеней, 12 сердец.
— Какое место тюменский Центр занимает среди других центров России?
— По донорской активности мы всегда где-то на 6−7-ом месте, по трансплантационной активности входим в десятку. Я считаю это хорошим показателем.
— А кто впереди нас?
— Москва, Татарстан, Кемерово, Новосибирск, Иркутск. Кстати, в каком-то году мы были пятыми по донорству на миллион населения.
— Как выстраивается работа по привлечению доноров?
— Правовая база для забора органов уже создана. Ни в одной другой области медицины нет такого количества законов и подзаконных актов. Прописаны процедуры констатации смерти мозга, алгоритмы взаимодействия между медицинскими организациями, формирования листов ожидания и все остальное. Но необходимо в первую очередь изменить ментальность специалистов – в отделениях реанимации, врачей-неврологов, к которым поступают, например, люди с фатальным нарушением мозгового кровообращения. Эти пациенты, к сожалению, умирают, но медики часто вообще не задумываются, что донорские органы могут кого-то спасти. Врачи у нас не готовы обсуждать изъятие органов с родственниками погибшего... В профессиональных требованиях у наших медиков нет заботы еще и о донорстве. Это, я считаю, результатом недостатка образования в медицинских вузах, где на эту тему никто не говорит. Необходимо не только врачам, но и среднему медицинскому персоналу, начиная с колледжей, об этом говорить... Важна популяризация донорства. Изменить это можно только на уровне региона. С этой проблемой тесно связана и общая проблема с кадрами.
— Сколько человек сегодня в листе ожидания?
— На операцию по трансплантации почки - 48 пациентов, на печень - 15 и 15 на сердце.
— Какое в среднем время ожидания?
— Сложно сказать. Бывает, пациент только попал в список, и через неделю для него появляется донорский орган. А некоторые пациенты ждут годами. Это вопрос совместимости: несовместимый донорский орган нельзя пересаживать, потому что он не приживется. Но в среднем ожидание в почечном листе - убрать где-то 5−7 лет, по сердцу - 1-3 года, по печени примерно так же. Это мировая статистика.
— А часто ли пациенты не дожидаются и умирают? Есть же такое понятие, как летальность в листах ожидания.
— У нас такой летальности практически нет.
— Благодаря чему?
— Мы за этими пациентами очень тщательно наблюдаем и стараемся их периодически госпитализировать, чтобы подготовить к будущей операции. К тому же критерии включения в лист ожидания мы установили для себя более требовательные. И если риск самой операции очень высок (возможность умереть на операционном столе или сразу после операции), нежели жизнь в ожидании, то пусть пациент дольше проживет без операции.
Если мы видим, что из-за дефицита донорских органов не успеваем провести трансплантацию в Тюмени, то направляем пациента в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова Минздрава России. Там делают быстрее.
— Сколько лет самому возрастному вашему пациенту? Есть ли какие-то критерии отбора?
— 72 года - мы пересаживали ему почки, 64 года был пациент по трансплантации сердца. Все зависит от того, как пациент дошел до терминальной стадии заболевания, не оброс ли при этом осложнениями и противопоказаниями. Все зависит и от индивидуальных особенностей больного. Например, два года назад мы пересадили печень пациентке в возрасте 66 лет: у нее был цирроз печени, но другие органы остались здоровыми. В национальных рекомендациях нет такого критерия, как возраст.
— В Тюменской области нет трансплантации органов у детей?
— Отдельно рассматривать детишек как субъект именно для трансплантации не стоит. Донорский орган для них (для детей - только от родственников) быстрее можно получить в федеральных учреждениях, у них технические возможности совершенно другие, если они делают операции 3−5 раз в неделю, чем те субъекты, где эти операции будут происходить раз в полгода.
— У вас в Центре случались операции родственных доноров?
— Да, мы пересаживали почки от родственных доноров. И до конца года запланирована такая же операция. Как правило, от родственников парные органы пересаживают менее чем в 10% случаев. У родственников тоже бывают противопоказания. И потом - такие решения принимают не врачи, а семья, сами пациенты. Когда позволяет состояние здоровья, пациенты предпочитают дождаться посмертного донорства. Поэтому вопрос родственного донорства актуален больше в отношении детей: им, как правило, нужно быстрее.
— Как бы вы охарактеризовали отношение общества к трансплантации органов?
— Некоторые страны достигли успехов в донорстве прежде всего потому, что государство системно работает над формированием общественного мнения. Еще в середине 1990-х я в Испании видел: на одной остановке автобуса плакат – фото больного и подпись, что ему нужна пересадка почки или печени. На другой остановке – портрет человека, который хорошо выглядит, и написано, что его спасла трансплантация.
Нужна система: просвещение общества должно происходить вместе с образованием медиков, куда включены вопросы трансплантологии. О возможности помочь умирающему человеку говорят со школы. А у нас юристы заканчивают вуз и не знают нормативного поля, связанного с донорством! Юристы!
Необходимо делать акцент на открытость и прозрачность медицинской деятельности, связанной с донорством органов и трансплантацией. Рано или поздно это даст свои плоды. Да, процентов 30% населения все равно будет не доверять медикам, но это нормально.
— У вас на двери висит табличка. Как переводится эта фраза?
— «Не забирайте свои органы на небеса. Небеса знают, что мы нуждаемся в них здесь». Этой наклейке много лет. Я привез ее из Барселоны в 1996 году, когда был там на конгрессе. Это испанская модель формирования у общества цивилизованного отношения к вопросам донорства и трансплантации: там в этом активно участвует католическая церковь. Но это все совпадает не только с желанием церкви, но и с готовностью и образованностью медицинских работников, водителей машин, которые, кстати, при получении прав погружаются в эту важную тему...
Но сегодня дремучесть общества подогревается возбуждением уголовных дел против врачей. И мы вместо работы за операционным столом ходим на бесконечные допросы - даем показания. И учим следователей разбираться в законах и правовых актах. Им проще открыть уголовное дело, чем найти хотя бы в интернете соответствующий делу закон. Им некогда. Приходят врачи и показывают им пальцем.
— А вы сами сталкивались с родственниками? Приходилось вам убеждать их?
— Нет. Все вопросы взаимодействия с родственниками законодательно урегулированы. Врачи не обязаны и не должны ни у кого спрашивать разрешения на изъятие органов. Но у родственников и у каждого из нас есть право в рамках этого закона высказать свое несогласие или согласие при жизни. То есть родственники имеют право высказать свое несогласие до смерти человека. Но если они не высказывают, врачи у них это разрешение спрашивать не обязаны.
Отсутствие знаний об этом и приводит к жалобам, письмам, возбуждению уголовных дел против врачей. И тянется рассмотрение такого дела полгода-год, отнимая у нас драгоценное время и сокращая уровень доверия к медикам. Вы только представьте: в Следственном комитете открыли специальное подразделение по разбирательству с медицинскими работниками!
— Скажите, пожалуйста, вам, врачу и организатору, достаточно правовых норм для работы?
— Вполне достаточно. У нас самое урегулированное законодательство, самые серьезные и жесткие требования к диагностике смерти мозга, чтобы после этого можно было изъять органы. Ни в одной стране мира такого нет.
— Разрешено ли в нашей стране альтруистическое донорство?
— Нет. Альтруистическое донорство - это один из сегментов донорства, когда парным органом может пожертвовать совершенно посторонний живой человек - не родственник.
Альтруистическое донорство возникло давно. Но оно возможно при условии широкого информирования общества. Когда люди каждый день видят человека, который нуждается в донорстве, как можно остаться безучастным? Можно как минимум поинтересоваться. В нашей стране альтруистическое донорство пока не имеет правового поля.
— При центре недавно создан координационный центр органного донорства. Какими вопросами он будет заниматься?
— Дело в том, что раньше у нас это было отделение по координации донорства - сейчас это отделение стало координационным центром органного донорства и будет заниматься вопросами взаимодействия с медицинскими организации для совместной деятельности, связанной с донорством органов. Это сложная работа, требующая постоянства. Нам же сегодня хватает своей клинической работы: это и операции, и пациенты, которые нуждаются в диализе, и пациенты после операции, их с каждым годом становится все больше, они тоже нуждаются в коррекции лечения, иногда в госпитализации... Мы решили развести эти два вида деятельности.
— Вы не единожды становились лучшим хирургом России, вы - успешный профессионал. Есть ли у вас какая-то формула успеха: как надо работать, чтобы добиваться его?
— Каждый человек на рабочем месте должен знать, что он хочет, должен верить в себя и иметь цель. И тогда, как в фильме «Чародеи», можно пройти сквозь стенку.
— А вы как для себя формулируете, что вы хотите?
— Я хочу, чтобы все было хорошо, чтобы была возможность работать, развиваться, дело развивать, укреплять репутацию Центра, за который я отвечаю.
— А почему для вас это важно?
— Потому что это моя работа. Может быть, если бы у врачей был прочный багаж знаний, было бы больше успешных профессионалов, все стремились бы к качественным результатам...
— Сергей Борисович, а как вы отдыхаете?
— По-разному. Сейчас мое хобби - у меня под окном.
Выглядываем: небольшой скверик.
— Это сквер, ухаживаю за растениями, их надо поливать, удобрениями подкармливать... В субботу и в воскресенье я все равно приезжаю на работу, есть пара часов свободного времени, чтобы прополоть, полить, удобрить - чтобы было красиво! Сами по себе, самостоятельно, цветы не могут расти, надо поддерживать красоту.
— Вы верите в Бога?
— Да. Правда, в церковь хожу нечасто. Но в медицине нельзя работать, полагаясь только на веру в Бога. Наверное, Бог помогает принять какое-то решение, когда ты долгое время проводишь в раздумьях, долго прокручиваешь какую-то ситуацию или делаешь выбор, чтобы в итоге все сделать правильно...
2025-09-18 14:01:42

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. НЕ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

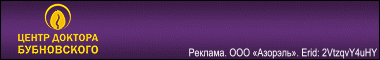
.gif)

 (2).gif)
.gif)



 (1).gif)